Экстерриториальность: взлет и упадок. Глава 2: В Леванте до 1453 г.
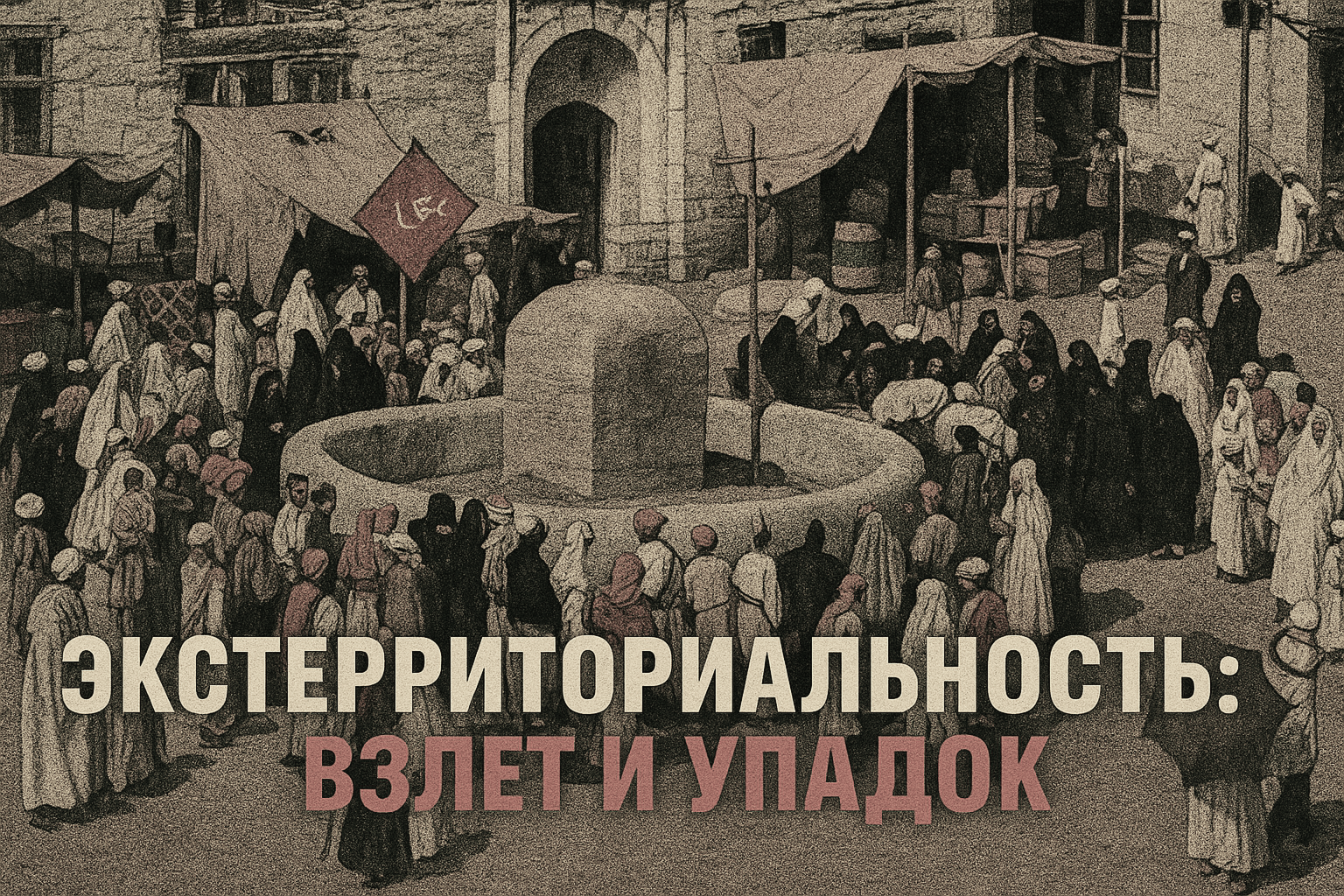
Это перевод второй главы из книги Ши Шун Лю «Экстерриториальность: взлет и упадок».
Глава 2: В Леванте до 1453 г.
I. Раннее применение
В предыдущей главе были кратко рассмотрены судебные полномочия консула в Европе. Настоящая глава будет посвящена возникновению консульства с его юрисдикционными правами на Востоке и в мусульманских государствах до 1453 года.
В книге сэра Пола Райко «Современное состояние Османской империи» впервые был опубликован документ, известный как Завещание Мухаммеда, датированный 625 годом, который предоставлял христианам определённые привилегии и уступки, одной из которых была защита, дарованная христианским судьям в мусульманских провинциях [1]. Подлинность документа оспаривается некоторыми авторами [2], но тот факт, что в Капитуляции Омара, о которой будет сказано ниже, упоминается акт Пророка, предоставляющий христианам безопасность, может рассматриваться как подтверждение его существования [3].
Тот же апокрифический характер приписывается Капитуляции, дарованной христианам в Сирии халифом Омаром ибн-Хаттабом в 636 году [4]. Но хотя документ мог быть вымышленным, он имеет большое историческое значение, так как в последующих спорах между христианами и турками на него постоянно ссылались, и он содержал многие из положений более поздних турецких капитуляций [5]. Капитуляция Омара предоставляла одинаковую безопасность христианским церквям, общинам и местам паломничества. Она постановляла, что христиан следует уважать в силу чести, оказанной им Пророком. Более того, они освобождались от подушной подати и всех прочих сборов в мусульманских государствах, и при их входе в Храм Гроба Господня никто не должен был брать с них ничего. Но христиане, посещавшие Храм Гроба Господня, должны были вносить Патриарху полтора драма (драхмы) белого серебра. Наконец, было постановлено, что истинные последователи обоего пола, будь то богатые или бедные, должны соблюдать этот закон.
В IX веке, как утверждают, Карл Великий получил от халифа Харуна ар-Рашида привилегии для франкских купцов в Иерусалиме, но, к сожалению, текст соглашения не сохранился [6].
То, что мусульмане настаивали на освобождении от территориальной юрисдикции, подтверждается не только их собственными уступками христианам, но и их положением в некоторых иностранных странах. Арабский купец по имени Сулейман сообщает, что в городе Канфу [7], который является нынешним Хайенем в Чжэцзяне, мусульманину было поручено императором Китая решать споры, возникавшие между людьми мусульманской веры в IX веке [8]. Это показывает, что мусульмане того времени были столь же ревнивы в защите своих прав за границей, как и готовы позволять иностранцам в своей державе заниматься собственными делами. Причина такого положения вещей заключается в основных религиозных убеждениях, отделяющих мусульманина от «неверного», о чём будет сказано позже, когда мы обратимся к более поздним христианским консульствам в мусульманском Востоке.
В X веке между византийским императором и варягами, или русами, были заключены капитуляции. Соглашение 912 года предусматривало, среди прочего, что «Тот, кто ударит кого-либо мечом или другим орудием, должен будет уплатить за это штраф в пять фунтов серебра согласно русскому закону» [9]. В договоре 945 года мы находим следующее примечательное положение:
Если русский попытается украсть у кого-либо в нашей империи, он должен быть строго наказан за этот поступок; а если он совершит кражу, он должен заплатить двойную стоимость украденного предмета. То же самое относится и к грекам в отношении русов; кроме того, виновный должен быть наказан согласно законам своей страны [10].
Взаимный характер этого договора неизбежно указывает на степень терпимости, с которой относились к данному освобождению обе стороны, и показывает, что было время, когда даже в отношениях одной христианской державы с другой практика экстерриториальности вовсе не казалась такой аномалией, какой она является сейчас.
II. Крестовые походы и возникновение экстерриториальности
Влияние крестовых походов на развитие международной торговли хорошо известно. Хотя преобладающей движущей силой этого великого вооружённого движения, охватившего все слои участвовавших людей, была религия, существовали и другие побуждения, которые вели их к конечной цели. Эти побуждения различались в зависимости от социального положения участников: для князей — любовь к завоеваниям и приключениям; для низших классов — желание возвысить своё социальное положение; а для буржуа — жажда прибыли [11]. В результате заметной роли, сыгранной буржуа, произошёл значительный рост объёма и масштабов заморской торговли.
Причины этого необычного развития международной торговли несложно объяснить. В значительной мере прогресс объясняется благоприятным положением Константинополя и его окрестностей. Долгое время, благодаря своему выгодному положению, византийцы сохраняли в Средиземноморье господство, не оспариваемое западными державами. На юге находился Египет, где Красное море контролировало товары Востока; в Малой Азии — Сирия, куда прибывали караваны из Аравийского моря, Персидского залива или из центра Азии, чтобы разгрузить свои товары; а на Чёрном море было множество мест, представляющих торговый интерес [12].
Сближённые крестовыми походами с этой страной возможностей, итальянцы и другие морские народы Запада стремились ещё более укрепить свои позиции, добиваясь многочисленных привилегий и уступок от христианских князей, которые в это время закрепились на Востоке. Обстоятельства того времени особенно благоприятствовали амбициям купцов, поскольку при завоеваниях, совершаемых крестоносными князьями, итальянские флоты постоянно привлекались для оказания неоценимых услуг, без которых вся храбрость и военное мастерство рыцарей были бы напрасны. Более того, даже после захвата хорошо укреплённых сирийских портов помощь итальянских флотов была необходима для их удержания. Очевидно, обладание этими портами было для крестоносцев вопросом жизни и смерти, так как через них поддерживалась беспрепятственная связь с Западом, откуда только и могли поступать людские ресурсы и деньги. Государям завоёванных территорий, таким образом, трудно было игнорировать помощь, оказанную итальянцами, и в знак признания этого им в различных местах были предоставлены многочисленные уступки. Со своей стороны, также не было редкостью — и вполне естественно — что итальянцы порой осознавали значение своей помощи и нередко делали её условной, требуя чрезмерного вознаграждения. Так было основано множество колоний, которые со временем превратились в торговые центры большей или меньшей важности на Востоке [13]. В пожалованиях, сделанных князем Тира пизанцам в 1188 [14] и 1189 [15] годах, например, прямо указывалось, что привилегии предоставляются в знак военных услуг, оказанных пизанцами.
В государствах Востока, находившихся под христианским владычеством во время крестовых походов, особые привилегии консульской юрисдикции существовали в Византийской империи [16], Сирии [17] и на Кипре [18]. Как и следовало ожидать, положения ранних пожалований были не всегда точны или всеобъемлющи, но в целом предоставленные права строго соответствовали принципу actor sequitur forum rei. За редкими исключениями [19], итальянцы на Востоке, которым обычно разрешалось жить в специально отведённых для них кварталах, подчинялись исключительной юрисдикции собственных консульских судов в делах, касавшихся только их самих [20]. Смешанные дела по некоторым ранним пожалованиям относились к ведению местных судов [21], но более поздняя практика ничем не отличалась от современного правила, что истец должен следовать за ответчиком в его суд. Дела туземцев против христиан относились к юрисдикции соответствующего консульского суда, а дела христиан против туземцев — к юрисдикции местных судов [22].
Следует отметить попутно, что независимо от этих актов привилегий в Иерусалиме существовал режим, по сути представлявший собой систему смешанных судов. Когда христиане Первого крестового похода завоевали Палестину и образовали королевство Иерусалим в 1099 году, они установили военную и феодальную конституцию, известную как «Assises de Jérusalem». Эти «Ассизы» учредили Коммерческий суд и Cour des Bourgeois. Коммерческий суд состоял из бальи и шести присяжных, двое из которых были христиане, а четверо — сирийцы. Все гражданские и торговые споры поступали в этот суд; но уголовные дела находились в исключительном ведении Cour des Bourgeois, который состоял из виконта и присяжных [23].
III. Экстерриториальность в мусульманских государствах до 1453 года
Завещание Мухаммеда и Капитуляция Омара составляют обычную основу мусульманской практики в отношении юрисдикции над иностранцами. Объяснение позиции, занятой мусульманином в этом вопросе, как уже упоминалось выше, следует искать в его религиозных убеждениях. Согласно Корану, который одновременно является и Евангелием, и сводом законов, и конституцией, все, кто не следовал мусульманской религии, должны были рассматриваться как враги и безжалостно истребляться [24]. Но требования торговли обусловили и осуществили смягчение этого правила. «Присущая и непреодолимая неприязнь мусульман, — говорит Прадье-Фодерé [25], — к ведению дел за пределами своей страны; их неопытность в мореплавании, которая заставляла их набирать команды только из числа иностранных моряков; необходимость, которую политические вожди ислама ощущали, использовать свою протяжённую береговую линию, свои прекрасные гавани, богатые продукты плодородной почвы и извлекать многочисленные выгоды из морской торговли, с самого начала были предназначены вдохновлять султанов на благожелательное отношение к иностранцам. Нужно было пригласить христиан к эксплуатации столь многочисленных ресурсов и, в интересах государства, поощрять их к созданию поселений на Востоке». Автор здесь говорит об истоках турецких капитуляций, но его слова в общем виде применимы ко всем мусульманским государствам до завоевания Константинополя. Таким образом, стремление мусульманина развивать торговлю и мореплавание спасало «неверного» от дамоклова меча ислама.
Действительно, торговый мотив, перед которым уступало даже религиозное фанатическое рвение, был столь сильным, что оставил свой отпечаток в самих капитуляциях, дарованных мусульманскими правителями. Замечателен тот факт, что все эти капитуляции были односторонними, предоставлявшими льготы без каких-либо встречных условий. Объяснение этого вновь следует искать исключительно в чрезмерном рвении к развитию торговли, и нигде более. Цель капитуляций состояла в том, чтобы регулировать условия, при которых европейцы могли вести дела на Востоке; интересы же мусульман, будь то на море или за границей, в христианской стране, полностью игнорировались ради пользы европейской торговли в их собственных владениях [26]. Таким образом, элемент взаимности явно отсутствовал, но его отсутствие, хотя и очевидное, не должно рассматриваться как умаление суверенитета со стороны гордых сарацин. Дело в том, что в рассматриваемый период понятие исключительного суверенитета ещё не родилось, и весьма маловероятно, что к нему придавалось большое значение с обеих сторон. Как бы то ни было, консул, обычно наделённый судебной властью, занимал на Востоке в то время положение отнюдь не возвышенное [27].
И хотя иностранец был спасён от участи «неверного» благодаря стремлению мусульман к процветанию европейской торговли, он всё же оставался вне ограды мусульманской религии. В Коране мы находим такой отрывок:
Скажи: «О вы, неверные!
Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы,
И вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я;
И я не поклоняюсь тому, чему поклонялись вы,
И вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я.
Вам ваша религия, а мне моя религия» [28].
Поскольку Коран являлся судебным, а также нравственным и религиозным кодексом, тот, кто не был последователем религии, естественно, не подчинялся закону. Поэтому необходимо было подчинить иностранца особой юрисдикции, наиболее разумной из которых была юрисдикция его собственной страны [29].
Считается, что Амальфи было первой христианской державой, вступившей в торговые отношения с Египтом. Согласно сэру Трэволсу Твиссу, купцы этого города получили от египетских халифов в конце IX века право торговать в Александрии под властью собственного консула, хотя текст такого пожалования не сохранился [30].
Самое раннее пожалование, сделанное Египтом христианской державе и сохранившееся до нашего времени, — это письмо 1154 года, адресованное египетским чиновником в Пизу, которое гарантировало пизанцам их собственную юрисдикцию [31]. В этом письме упоминалось о сохранении старых прав [32], что указывает на существование консульской юрисдикции в Египте ещё до 1154 года. Другие итальянские республики, пользовавшиеся экстерриториальными привилегиями в Египте в это время, были Венеция [33], Генуя [34] и Флоренция [35].
Помимо Египта, права консульской юрисдикции существовали также в Берберийских государствах в пользу итальянских и испанских держав [36].
Согласно этим капитуляциям, христианам разрешалось жить в специально отведённых кварталах под собственным управлением. Дела, будь то гражданские или уголовные, касающиеся христиан одной и той же национальности, находились в исключительном ведении их консула, применявшего их собственные законы [37]. В смешанных делах, как правило, применялся принцип actor sequitur forum rei, хотя иногда это сопровождалось неясностью и путаницей. Так, пизанцы были полностью освобождены от местного вмешательства во всех делах, касавшихся их [38], и должны были обращаться с уголовными делами в суд адмирала Александрии [39]; венецианский консул должен был разбирать дела между венецианцами и другими христианами в Египте [40]; тогда как флорентийцы, когда они унаследовали права пизанцев, подчинялись юрисдикции султана в их тяжбах с другими христианами в Египте [41]. Это отступление от общего принципа было устранено договором 1496 года, который предоставил пизанцам те же права, которыми пользовались венецианцы [42]. В общем, дела между иностранцами разных национальностей должны были рассматриваться их консулами, а дела между туземцами и христианами также передавались в суд ответчика [43]. В некоторых договорах местным судам предоставлялось право апелляции в случаях, когда туземцы предъявляли иски против христиан в их консульских судах [44].
Источники:
[1] "By this Covenant ... I promise to defend their judges in my Provinces, with my Horse and Foot, Auxiliaries, and other my faithful Followers..." Rycaut, op. cit., p. 100; Van Dyck, "Report on the Capitulations of the Ottoman Empire," U.S. Sen. Ex. Doc. 3, 46th Cong., Sp. Sess., (Appendix I).
[2] Ravndal, The Origin of the Capitulations (Washington. 1921), p. 12.
[3] "Ils [the Christians] méritent tous les égards, parce qu'ils furent déjà autrefois honorés par le Prophète d'un Document muni de sou Sceau, par lequel il nous exhorte à les ménager et à leur accorder la sureté." Text in Miltitz, op. cit., vol. ii. pt. i, p. 500. Cf. Féraud-Giraud, De la Juridiction française dans les Echelles du Levant (Paris, 1866), vol. i, p. 36, n. 1.
[4] See a French translation of the text in Miltitz, op. cit., vol. ii, pt. i, p 500.
[5] Charriere, Négociations de la France dans le Levant, vol. i, pp. lxvi-lxix.
[6] Miltitz, op. cit., vol. ii, pt. i, p. 7; Pardessus, Collection de lois maritimes, vol. i, p. lxv.
[7] Klaproth, "Renseignements sur les ports de Gampou et de Zaithoum, déscrits par Marco Polo," Journal Asiatique, vol. v, pp. 35 et seq. Many writers have erroneously taken Canfu for Canton. Even such a learned scholar as Sir Travers Twiss has fallen into this mistake. Twiss, Law of Nations, vol. i, p. 447.
[8] Reinaud, Relation des voyages (Paris,, 1845), vol. i, p. 13. Cf. Par-dessus, op. cit., vol. ii, p. xxviij. Of the authority for the existence of a Mohammedan judge in China in the ninth century, Sir Travers Twiss says: "This interesting fact was first made generally known by a narrative purporting to be the work of two ancient Arab travelers which was translated into French by Eusebius Renaudot in 1718, and subsequently translated into English in 1733. The MS., however, of which there is preserved in the Bibliotheque Nationale in Paris a perfect example, has been subsequently ascertained to be an extract from a larger work by a most famous Arab historian, Ali Abou'l Hassan Mas'oudy, who died in Egypt A.D. 956, and who was a contemporary of the Arab travelers, whose voyage he has handed down to us." On Consular Jurisdiction in the Levant (London, 1880), p. 6.
[9] La Chronique de Nestor, trans, by L. Paris (Paris, 1834-35), vol. i, p. 40.
[10] Ibid., p. 61.
[11] Heyd, Histoire de commerce du Levant (Leipzig, 1885-86), vol. i, p. 131.
[12] Heyd, op. cit., p. 24; Nys, Les Origines du droit international (Brussels, 1894), p. 281.
[13] Heyd op. cit., vol. i, pp. 131-132. 135-136. Cf. Martens, Das Consularwesen (Berlin, 1874), p. 61; Nys, Les Origines, p. 283.
[14] Lünig, Codex Ital. Dip. (Francfort, 1725-34), vol. 1, c. 1060.
[15] Muratori, Antiq. Ital. (Avetti, 1773-80), vol. vi, c. 279.
[16] Venice, Nov., 1199, Tafel und Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig (Vienna, 1856-57), vol i, pp. 273-276; Genoa, Venice and Pisa, 1265, Pachymeres, Michael Palaologus (Rome, 1666), p. 105; Turkey, 1391, Ducas, Historia Byzantina (Paris 1649), p. 30. According to the last-mentioned grant, the Turks were to have a cadi in Constantinople to decide their own cases. This is important, as it constitutes a significant basis for the later Turkish Capitulations, especially as it was granted by a Christian to a Mohammedan Power. See Chapter III.
[17] Venice: Jerusalem, 1123, Tafel und Thomas, op. cit., vol. i, p. 87; May, 1125, ibid., p. 92; 1130, Muratori, op. cit., vol. vi, c. 288; Beirut, Dec., 1221, Tafel und Thomas, op. cit., vol. ii, p. 231; Tyre, 1275, Muratori, Rerurm italicarum scriptores (Mediolani, 1723-51). vol. xii, c. 382-383.
Pisa: Antioch, 1154, I.ünig, op. cit., vol. i, c. 1046; Jerusalem, 1157, ibid., c. 1047; Antioch, 1170, Muratori, Antiquitates Italicae, vol. vi, c. 268; Tripoli, 1187, ibid., c. 271; Tyre, Oct. 6, 1187, Ughelli, Italia Sacra (Venice, 1717-22), vol. iii, c. 415-416; 1188, Lünig, op. cit., vol. i. 1060; 1189, Muratori, op. cit., vol. vi, c. 278; 1191, ibid., c. 281; Antioch, 1216, ibid., c. 284.
Genoa: Antioch, Sep. 1, 1190, Dumont, Corps universel diplomatique, vol. i, pt. i, p. 115.
Marseilles : Syria, Nov. 8, 1226, ibid., p. 164.
[18] Genoa: July 12, 1218, Mas-Latrie, Histoire de l'île de Chypre (Paris, 1852-61), vol. ii, Doc., p. 39; June 10, 1232, ibid., pp. 51-52; Dec. 25, 1233, ibid., p. 58; Feb. 16, 1329 (art. 2), ibid., p. 153; April 18, 1365, (art. 3), ibid., pp. 258-9.
Venice: June 3, 1306 (art. 7), ibid., pp. 105-6; Sep. 4, 1328, ibid., pp. 142-3; Aug. 16, 1360, ibid., p. 232.
[19] The excepted cases were those of murder, rape, assault, treason and robbery. See Venice-Beirut, 1221; Pisa-Tripoli, 1187; Genoa-Cyprus, 1218, 1365 (art. 3); Venice-Cyprus, 1306 (art. 7).
[20] See all the acts listed in notes 13-15
[21] Pisa-Antioch, 1154, 1170. The Byzantine grant of 1199 to Venice stated that only the more important cases between Venetians and Greeks were to be tried by the local court.
[22] Venice-Byzantium, 1199; Venice-Jerusalem, 1123, 1125, 1130; Venice-Tyre, 1275; Pisa, 1187, 1189; Genoa-Cyprus, 1365 (art. 3); Venice-Cyprus, 1306 (art. 7).
[23] Miltitz, Manuel des consuls, vol. i, pp. 42-48, 168, n. 6; vol. ii. pt. i. p. 16; Ancien Diplomate, Le Régime des Capitulations, pp. 38-39; Depping, Histoire du commerce (Paris, 1830), vol. ii, p. 210. Cf, Foucher, Assises de Royaume de Jérusalem, 1 vol. in 2 (Rennes, 1839-41); Beugnot, Assises de Jérusalem, 2 vols. (Paris, 1841-43).
[24] Koran, sura xlvii, verse 4, "When ye encounter the infidels, strike off their heads till ye have made a great slaughter among them, and of the rest make fast and fetters."
[25] "La Question des Capitulations," Revue de droit international et de législation comparée (hereafter referred to as R. D. I.), vol. i, p. 119. Cf. Féraud-Giraud, De la Jurisdiction française dans les Echelles du Levant, vol. i, pp. 33-35.
[26] Mas-Latrie, Traités de paix el de commerce (Paris, 1865), Introduction Historique, pp. 114, 115. According to M. Mas-Latrie, who has made an exhaustive study of the documents bearing on the commercial relations between the Christian States of Europe and the Mohammedans of North Africa, a condition of reciprocity in all but one respect, could have come about. "Save this case [of religion] and this case alone, perhaps, the Mussulmans would probably have obtained in Europe complete equality of treatment, if the Arab plenipotentiaries, nearly always charged with the first draft of the treaties, of which the Latin text was only an interpretative version, had felt it opportune to stipulate for it." Ibid., p. 115.
[27] In the writings of Khalil ben-Schahin Dhahéri occurs a passage, which is translated by M. Silvestre de Sacy into French as follows: "Dans cette ville [Alexandria] sont otages des consuls, c'est-à-dire, de grands seigneurs d'entre les Francs des diverses nations: toutes les fois que la nation de l'un d'eux fait quelque chose de nuisible a l'islamisme, on en demande compte à son consul, qu'on en rend responsable." Silvestre de Sacy, Christomathie arabe (Paris, 1806), vol. ii, p. 318.
[28] Sura cix.
[29] Cf. Pelissie du Rausas, Le Régime des Capitulations dans l’Empire Ottoman (2nd ed., Paris, 1910-11), vol. i, p. 21, where it is said: "The Mussulman law was not made for the foreigner, since he is a non-Mussulman; it is necessary that he remain subject to his own law. The Mussulman law can neither protect him nor judge him nor punish him, since it protects, judges and punishes only Mussulmans; it is necessary that he be protected, judged and punished by his own law. The Mussulman law is the Jus Quiritium; it is the exclusive right, the privilege of the Mussulmans; and it is the Jus Gentium that rules the foreigner."
[30] Twiss, Law of Nations (2nd ed., Oxford, 1884), vol. i, p. 446.
[31] Amari, I Diplomi Arabi (Firenze, 1863), p. 247. This letter was confirmed by another letter from Saladin dated Sep. 25, 1173, ibid., p. 257, and a treaty of 1215-16 (art. 33), ibid., p. 287.
[32] Ibid., p. 248.
[33] Nov. 14, 1238, Tafel und Thomas, op. cit., vol. ii, p. 338.
[34] 1200, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, vol. xi, p. 35.
[35] June 14, 1422, Amari, op. cit., p. 333; 1488 (arts. 11, 12, 14), ibid., p. 384; 1496, ibid., p. 212; 1509, ibid., p. 223.
[36] Tunis: Venice, 1251 (arts. 4, 23), Mas-Latrie, Traités de paix et de commerce, Doc., pp. 200, 202; 1271 (art. 3), ibid., p. 204; 1305 (art. 3), ibid., p. 212; 1317 (art. 3), ibid., p. 217; 1392 (art. 3), ibid., p. 233; 1438 (art. 3), ibid., p. 251; 1456, ibid., p. 255; Genoa, June 10, 1236 (art. 15), ibid., p. 117; Oct. 18, 1250 (art. 15), ibid., p. 120; Oct. 17, 1391, ibid., p. 132; Oct. 19, 1433 (arts. 3, 15), ibid., p. 135; 1445, ibid., p. 142; Pisa, May 16, 1353 (arts. 9, 35), ibid., pp. 58, 62; Dec. 14, 1397 (art. 5), ibid., p. 74; Florence, 1421 (arts. 2, 3, 5), ibid., p. 347; Aragon, 1271 (arts. 9, 28), ibid., p. 283; 1285 (art. 28), ibid., p. 289; 1314 (art. 15), ibid., p. 309; 1323 (arts. 16, 17, 18), ibid., p. 322.
Morocco : Pisa, 1358 (art. 11), ibid., p. 68.
[37] See all the Captulations listed in notes 33-36.
[38] Letter of Saladin, Sep. 25, 1173.
[39] 1215-16, art. 33.
[40] 1238.
[41] 1488, art. 24.
[42] Amari, op. cit., p. 212.
[43] Venice-Egypt, 1238; Genoa-Egypt, 1290; Venice-Tunis, 1251, art. 23; 1305, art. 3; 1317, art. 3; 1392, art. 3; 1438, art. 3; Genoa-Tunis and Tripoli, 1236, art. 15; Genoa-Tunis, 1250, art. 15; 1433, art. 3; Pisa-Tunis, 1353, art. 9; 1397, art. 5; Florence-Tunis, 1421, arts. 2, 3, 5; Aragon-Tunis, 1271, art. 9; 1323, art. 16; Pisa-Morocco, 1358, art. 11. The treaty of 1356 between Venice and Tripoli contained the peculiar provision that cases between Saracens and Christians should be tried by special local judges, according to the laws of each party (art. 4).
[44] Venice-Tunis, 1305, art. 3; 1317, art. 3; 1392, art. 3; 1438, art. 3; Pisa-Tunis, 1397, art. 5; Florence-Tunis, 1421, art. 5; Aragon-Tunis, 1323, art. 16.