Интер- и над-юрисдикционная сторона панархии
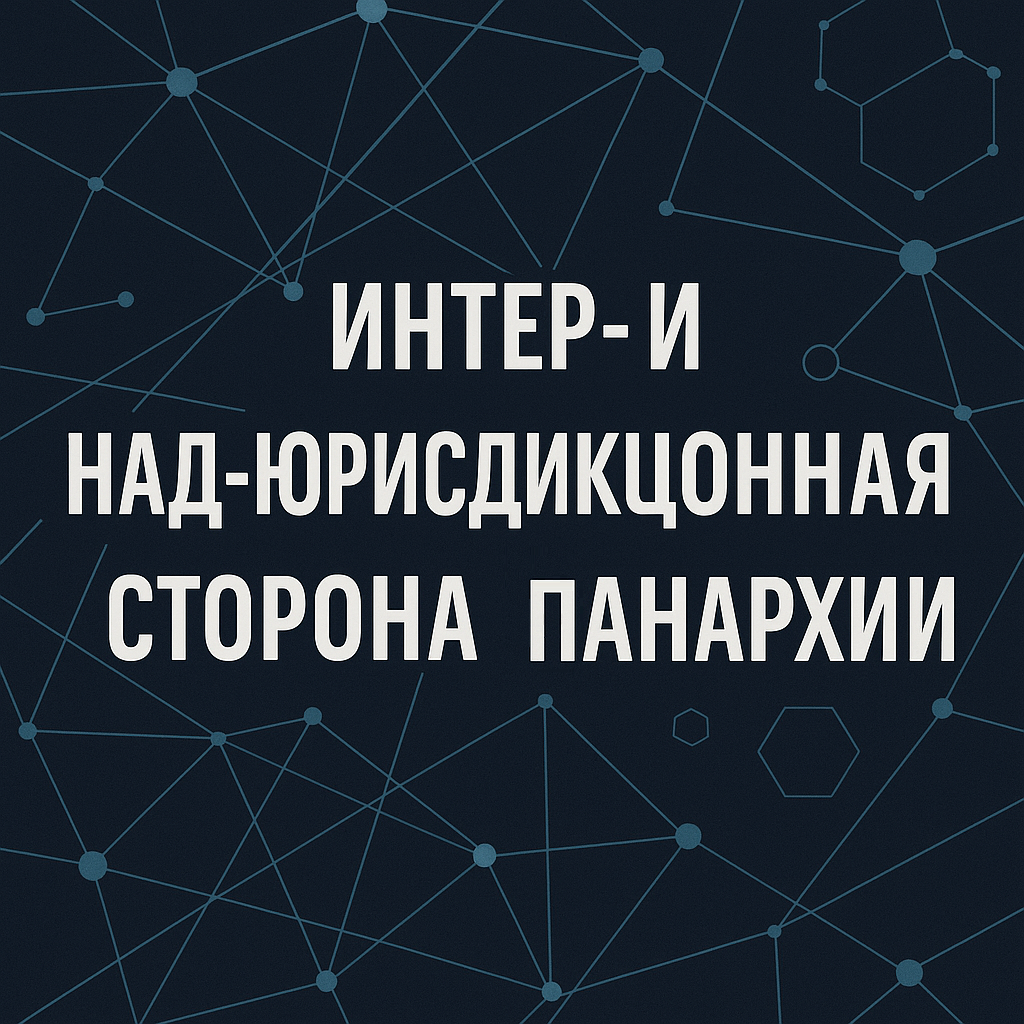
Примечание
Автор этого текста берётся за трудную задачу — представить возможные сценарии разрешения неизбежных споров, которые возникнут между нетерриториальными сообществами, когда идея панархии начнёт пробивать себе дорогу теоретически и практически. Это сложная, но необходимая задача, которая, в своё время, будет дополнена экспериментированием и принятием разнообразия — двумя аспектами, составляющими базовую суть панархии.
Дальнейшие вклады в этом направлении, я полагаю, будут приветствоваться автором, поскольку они будут свидетельствовать о том, что дебаты об идее и стремление экспериментировать с ней стали живой реальностью.
Введение
Данная статья представляет собой продолжение мыслей об новом видении будущего космополитического мироустройства в парадигме панархии, а не традиционных территориальных государств. Здесь затрагиваются темы, которые теоретики панархии обычно конкретно не обсуждают (а если и обсуждают, то крайне поверхностно). Так как панархия — это в первую очередь множественность правительств/экстерриториальных сообществ, то рассматривается именно это. Но у многих критиков панархии или людей, только что узнавших об этой теории, появляется много вопросов именно на тему взаимодействия правительств, коллизии юрисдикций и т.п. Из-за отсутствия адекватных ответов на свои вопросы потенциальные сторонники панархии начинают считать её утопией, политически несостоятельными мечтаниями. Поэтому очень важно разработать действенную теорию панархии, охватывающую тематику интер- и над-юрисдикционного уровня.
Основные аспекты панархии и универсальные принципы
Основные аспекты панархии включают в себя: плюральность, разнообразие и экспериментирование. Плюральность (или экстерриториальность) заключается в том, что на одной территории может функционировать сразу несколько юрисдикций, экономических систем, конфессий (то есть человек волен присоединиться к системе по личному желанию, а не по факту рождения на определённой территории). Разнообразие — это сосуществование самых различных систем (от социалистической экономики до буддистских религиозных групп). Экспериментирование означает, что мы в свободной среде постоянно пробуем разные формы устройства общества. Так можно проводить даже научные эксперименты, набирая добровольцев, чтобы, к примеру, доказать какую-то социальную теорию. При этом никто не получает вреда, а эксперимент всегда можно закончить. Возможно при таком раскладе в будущем и получится определить наиболее рациональные социальные системы.
У панархии существуют и универсальные принципы, которые нельзя нарушать вне зависимости от выбранной юрисдикции или социальной системы. Их как минимум два: принцип неагрессии (ненападения) и экологический принцип. Принцип неагрессиии (non-aggression principle, NAP) — это концепция, в рамках которой «агрессия», определяемая как инициирование или угроза любого силового вмешательства в жизнь человека, его собственности или его соглашений (контрактов), является аморальной и не должна быть допущена. Экологический принцип — никакой индивидуум не может загрязнять или уничтожать природу, любыми способами и в любых видах.
Взаимоотношения правительств
Алексей Шустов в своей книге «ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВА 2.030» предлагает международные отношения как образец взаимодействия сегодняшних правительств, чтобы перенести такую практику на экстерриториальные правительства и сообщества. То есть способом выстраивания взаимоотношений между правительствами/сообществами должны стать договоры, которые по идее и должны решать юрисдикционные коллизии в самых разных областях жизни (от преступлений по отношению к клиенту другого правительства до принятия ребёнка в школу, принадлежащую иному государству).
Однако, давайте представим следующую картину. Допустим, что всего у нас в мире будет 50 экстерриториальных правительств (это самое минимальное число, теоретически их может быть хоть миллион). Каждому правительству нужно заключить 49 соглашений с другими государствами (или сообществами) только по одному юридическому кейсу. У нас выйдет 1225 договоров по одному кейсу.
Но на самом деле этих кейсов могут быть тысячи. Возьмём минимальное число — 1000. В итоге выходит 1 225 000 соглашений всего и 49 000 для каждого правительства. Говорю снова, что это только минимальные числа. На деле этих договоров может быть намного больше. Понятно, что такое положение дел абсурдно. Но это ещё не всё.
Можно предположить, что все эти договоры будут составляться по мере необходимости, не сразу. Но я цитирую Шустова: «Фактически, ни одно новое правительство не имеет права начать подписывать договоры с гражданами, пока не обзаведётся пакетом соглашений с уже существующими правительствами, гарантирующих его «клиентам» обеспечение тех «услуг», которые оно обещает». Это означает, что каждому новоиспечённому правительству нужно наклепать как минимум 49 000 договоров до того момента, когда они начнут принимать первых граждан. Я не думаю, что новому правительству вообще хватит столько ресурсов (денег, времени) для составления такого количества договоров при условии, что у них ещё нет никаких налогоплательщиков. В таком случае основать какое-то правительство сможет только миллионер или большая корпорация, у которых уже есть начальный капитал.
Понять абсурдность такого предложения можно и через примеры, где такие практики бесполезны и не используются в жизни (и тем не менее всё прекрасно функционирует). Клуб со своим собственным кодексом поведения не обязательно должен заключать соглашения со всеми клубами мира. Заключение договора с телефонной компанией не означает, что телефонная компания заключила соглашения с остальными телефонными компаниями во избежание каких-либо проблем с обслуживанием или предоставлением услуг.
Поэтому я предлагаю другую систему. Она не является стопроцентно вероятной или лучшей, здесь — поле для дискуссий. Новоиспечённое правительство не будет обязано на старте заключать тысячи договоров. В случае, если будут возникать юрисдикционные коллизии, это можно считать новым юридическим прецедентом. Этот прецедент будет рассматриваться в интер-юрисдикционных судах (при преступлениях) или на собрании представителей правительств, юрисдикции которых коллидировали (при остальных случаях). И только тогда, когда будет вынесено решение, составляется межправительственный договор. Возможно при более бытовых и редких случаях можно и не заключать никаких договоров.
Взаимоотношения граждан разных правительств
Граждане, ассоциации, компании и т.д., находящиеся в разных юрисдикциях, могут свободно заключать между собой контракты. Могут быть такие случаи, когда условия контракта будут нарушены одной из сторон. Тогда у второй стороны есть два варианта, как поступить: обратиться либо в интер-юрисдикционный суд, либо в нейтральный арбитражный суд.
Интер-юрисдикционный суд по сути можно считать экстерриториальным аналогом территориальных государственных судов. То есть это официальная структура мировой конфедерации.
Нейтральный арбитражный суд — это аналог третейского или частного суда в сегодняшних государствах. Принцип тот же, что и у интер-юрисдикционного суда, но нейтральный арбитражный суд создаётся какой-то международной юридической организацией, имеющей такое разрешение (его можно получить после прохождения аккредитации на соответствующую деятельность). Судьи в обоих типах судов должны допускаться к работе только при наличии пройденного обучения, подготовки.
Связующим звеном между разными юрисдикциями может быть «метаправо». Это набор общих законов, правил, принципов, которые находились бы над всеми юрисдикциями и обеспечивали бы совместимость различных систем (как для вынесения решений в интер-юрисдикционном или нейтральном арбитражном судах, так и для законного обоснования противостояния отдельным личностям, правительствам, сообществам, которые бы нарушали общие универсальные принципы). Законы, правила, принципы такого «метаправа» должны носить исключительно либо универсальный, либо нейтральный характер, в их рациональном и объективном понимании, а не как-то неправильно интерпретированном.
Мировые и континентальные ассоциации
В другой моей статье «Либертарианский взгляд на космополитический строй» (2024) я ввёл термин «мировая ассоциация». В этом разделе я постараюсь более подробно раскрыть сущность и мировых, и континентальных ассоциаций.
Определение, которое я даю этому термину в той статье, не совсем верно. Поэтому я представлю видоизменённую версию. Мировая ассоциация — это объединённая структура, союз, в который входят все экстерриториальные правительства/сообщества из разных точек мира, которые связывает похожий стиль управления, устоявшиеся практики и т.д., с целью решения более глобальных проблем, выходящих за уровень отдельного сообщества, но касающихся только их деятельности.
У термина «континентальная ассоциация», как можно догадаться, почти такое же определение. Только в такую ассоциацию входят сообщества со всего континента.
Чтобы легче понять концепцию мировых и континентальных ассоциаций, лучше привести пример. Представим, что всего в Северной Америке существует 15 экстерриториальных социал-демократических правительств. При создании североамериканской ассоциации социал-демократических государств создаются референдумы в потенциальных государствах на вхождение в ассоциацию среди их граждан. Если граждане одобрили это решение, то правительство подаёт заявку. В случае принятия правительства в ассоциацию, в парламент выбирают своего делегата(ов). В парламенте делегаты правительств голосуют за определённые решения, которые имеют континентальный уровень. С мировыми ассоциациями всё аналогично, только обсуждаемые проблемы — мирового масштаба. По сути это такие же политические, экономические и военные альянсы государств, которые сегодня существуют.
В статье «Космополитическая панархия» (2024) я предложил мировой парламент для решения глобальных проблем, касающихся всех людей, независимо от их гражданства. Сначала предлагалось выбирать туда делегатов от каждого экстерриториального правительства. Но стало понятно, что таких правительств может быть сколько угодно и, естественно, нет никакой возможности собрать много делегатов вместе. Поэтому лучше всего выдвигать делегатов в мировой парламент от мировых ассоциаций, чтобы их количество было не таким большим.
Мировая конфедерация (и почему не федерация)
Панархия в целом очень хороша для организации более эффективной социальной структуры на локальном уровне. Социальная фрагментация хороша как способ избежать конфликты, революции и насилие. Но на глобальном уровне фрагментация может провести к плачевным последствиям. Поэтому, если существует потребность в объединении экстерриториальных правительств и сообществ перед лицом мировых проблем (по типу эпидемий, голода, природных бедствий и т.п.), то нужна та самая объединяющая структура.
Мировая конфедерация, объединяющая все экстерриториальные правительства и сообщества, которые готовы вместе кооперироваться, может послужить отличным способом предотвращения фрагментации общества. Не стоит торопиться с выводами, если вы со скепсисом относитесь к самому понятию «мировая конфедерация», сравнивая это с мировым правительством, готовым устроить глобальную диктатуру. Сама конфедерация будет напоминать скорее децентрализованный союз кантонов (как в Швейцарии до 1848 года), а не бюрократический Европейский Союз. Полномочия людей, обеспечивающих деятельность мировой конфедерации, будут ограничены, чтобы избежать этатизации структур. Кроме того, мировая конфедерация не предполагает наличие президента, просто потому, что в этом нет никакой нужды (все решения будут приниматься непосредственно народом или делегатами).
Отличие конфедерации от федерации состоит в том, что конфедерация — это союз независимых государств (в случае панархии — экстерриториальных государств или добровольных сообществ), а федерация — полицентрическое государство. Согласно этому определению экстерриториальные государства или сообщества не могут образовывать федерацию, поскольку они являются не просто ограниченными центрами, а полноценными независимыми структурами. К тому же, даже если образовать «федерацию экстерриториальных государств и сообществ» (при том, что мы допускаем такой оксюмороничный термин), то она со временем станет подминать под себя больше власти (это показывает пример США), что будет катастрофично в мировых масштабах.
На практике создание мировой конфедерации могло бы выглядеть следующим образом. Экстерриториальные государства и сообщества, когда их появилось достаточно, чтобы основать прочный союз, осознали существование определённых глобальных проблем, с которыми в одиночку правительствам не справиться. Какое-то правительство может инициировать создание мировой конфедерации, обращаясь к другим правительствам. Число участников союза может увеличиваться со временем. Государства и сообщества, желающие войти в конфедерацию, должны соответствовать определённым требованиям. Если они им соответствуют, то подписывают договор об вхождении.
Фрагментируемые и не фрагментируемые элементы
Панархия — это теория лишь о фрагментируемых элементах. Под фрагментируемыми элементами понимается всё то, что можно разделить и оставить «жить своей жизнью» без плохих последствий, что может быть не универсальным (к примеру, юрисдикции, экономические отношения, религии и т.д.). И в этом ограниченность панархии. Она затрагивает только фрагментируемое, но игнорирует не фрагментируемое.
Не фрагментируемые элементы чаще всего имеют территориальную основу. Я приведу пример ситуации, которую панархисты могут игнорировать. Допустим, что есть какая-то территория земли в городе, которая вся политически не монополизирована, т.е. все люди, живущие там, являются подопечными экстерриториальных правительств. И вот, какая-то компания решила разместить лавочки в сквере, где их не было. Подопечные одного правительства согласились с этим, а другого — нет. И что делать в таком случае? Очевидно, голосовать. Только панархия как бы противостоит демократическому голосованию, из-за того, что неизбежно какая-то часть людей останется проигнорированной. Об этой проблеме будет сказано в следующем разделе.
Ещё примеры не фрагментируемых территориальных элементов: владение природными ресурсами (полезные ископаемые), реками, озёрами, океанами, морями, лесами. Этим всем может владеть локальная или глобальная над-юрисдикционная организация. Кроме того, необходимы правила, имеющие территориальную привязку (к примеру, двустороннее или левостороннее движение транспорта, возможность или запрет на курение в общественных местах, шуметь после определённого времени, носить определённые виды одежды, не мусорить в лесу и на улицах, и т.д.). Они могут решаться голосованием в над-юрисдикционных структурах локального уровня.
Вопрос с владением земли очень сложен. Поскольку разные правительства будут одобрять самые разные формы владения землёй его гражданами, и они формально могут по-разному обращаться с одной и той же территорией земли. Например, анархо-капиталисты следуют принципу гомстеда. Это такой принцип, согласно которому человек может приобрести право собственности на землю, если она никому не принадлежит (но только при том условии, что он выполнил первоначальный акт присвоения, например, начал там что-то выращивать или строить). А джорджисты и гезеллианцы (последователи Генри Джорджа/Сильвио Гезелля) считают, что земля не может быть присвоена кем-либо в форме частной собственности. И как быть? Единственное предложение, которое я нашёл по этому поводу — это «гео-мутуалистический панархизм» Уильяма Шнака. Если описывать коротко, то он как бы предлагает монополизировать экономический сектор джорджизмом и мутуализмом (теорией Прудона), но оставить панархию в социальной сфере. То есть по земле у нас будут работать только джорджистские и мутуалистические принципы. Но это вообще не решение проблемы. Во-первых, это утопия (как бы мне это слово не нравилось) потому, что автор проецирует свои экономические взгляды на эту теорию и предлагает всем следовать этим практикам и никто кроме самих джорджистов и мутуалистов на это не согласится. Во-вторых, это монополизация. С не фрагментируемыми элементами можно справиться не только монополизацией, но и частичным ограничением свободы субъектов. По земле я предлагаю следующее. Политически не монополизированными территориями могут владеть локальная над-юрисдикционная организация или земельный траст, который будут продавать/давать в аренду землю клиентам разных правительств и сообществ. В зависимости от запроса покупателя/арендатора земли, им будут предоставляться различные формы владения/собственности. Например, клиент социалистического правительства может арендовать определённую территорию земли для коллективного пользования. Или клиент либерального правительства может купить участок земли в частную собственность. Но практики и принципы, выходящие за эти рамки (например, принцип гомстеда или считать, что вся земля на планете не может быть в частной собственности) не могут быть реализованы.
А также есть не фрагментируемые элементы без территориальной привязки: новорождённые дети, родители которых являются подопечными разных правительств, и интеллектуальная собственность. Сложный вопрос с интеллектуальной собственностью будет разобран в следующем разделе. Вопрос с юрисдикцией новорождённого ребёнка до этого вообще не поднимался. Всё вполне ясно, когда родители только что рождённого ребёнка будут клиентами одного и того же правительства. И автоматически их ребёнок примет ту же юрисдикцию. Но возникают сложности, когда родители выбрали разные юрисдикции. Понятное дело, что новорождённый ребёнок недееспособен, не может самостоятельно выбрать юрисдикцию. Поэтому я предлагаю следующую систему. Перед или сразу после рождения родители должны совместно выбрать, юрисдикцию матери или отца (или возможно совершенно другую) примет их ребёнок. При чём выбор не может быть единоличным, принятым только одним из родителей. Подписать контракт с юрисдикционным агентством должны оба родителя. Однако, я полагаю, будут и такие случаи, когда родители не смогли договориться об одной юрисдикции и не подписали контракт (или просто проигнорировали это). Тогда над-юрисдикционная структура, отвечающая за это, сама выберет юрисдикцию одного из родителей для ребёнка (возможно по критерию большей ответственности или ещё какому-нибудь). До 14 лет ребёнок будет в правовом поле выбранной при рождении юрисдикции. С 14 до 18 он сможет поменять её при согласии родителей или опекунов. После 18 может действовать полностью самостоятельно.
Важно отметить, что подобных нераспространённых и экстремальных проблем может быть сколько угодно. И все эти размышления со временем (когда собственно с этим столкнутся на практике) могут быть значительно пересмотрены в контексте всей ситуации и обстановки.
Проблемные места
В первую очередь хотелось бы обсудить проблему с интеллектуальной собственностью. Сначала можно предположить, что это фрагментируемый элемент. Ведь клиенты социалистических правительств будут выступать против интеллектуальной собственности, а либеральных или ещё каких-нибудь будут за. Но если фрагментировать интеллектуальную собственность, то будет возникать множество юрисдикционных коллизий. К примеру, клиент либерального правительства выпустил книгу, на которую распространяется авторское право. А клиент мутуалистического правительства (или скорее сообщества), взял и начал множить копии книги, чтобы потом продать их. Спрашивается, а какой смысл в авторском праве, если клиент либерального правительства может сменить его на мутуалистическое и легально заниматься продажей чужих книг? Или наоборот. Клиент социалистического правительства придумал новое изобретение. А клиент либерального правительства запатентовал это изобретение на своё имя. Получаются такие абсурдные ситуации. Именно поэтому интеллектуальная собственность — не фрагментируемый элемент.
Я не вижу способов решения подобных межъюрисдикционных коллизий. Возможно, решения найдутся тогда, когда теория панархии начнёт разрабатываться более широко.
Про форму совместного решения вопросов. Наименее худшие формы, которые мы имеем — это консенсус, компромисс и демократия. Но у всех них есть существенные недостатки. Консенсус не может быть достигнут почти никогда, если в обсуждении участвует более 20-30 человек. Более продвинутые виды консенсуса (модель квакеров) могут быть эффективнее, но не в случае большущих заседаний на тысячу или несколько тысяч человек. Компромисс, по сравнению с консенсусом, намного лучше ввиду того, что не заставляет тратить очень много времени на принятие решение. Но в то же время компромисс — спорный инструмент. Некоторые упёртые или «принципиальные» люди и группы совсем не любят компромисс. Из-за этого процесс принятия решений может быть затруднён. Также форма выражения компромисса иногда может быть непонятна и неконкретна. То есть не все компромиссные решения могут быть приняты. В демократии (или голосовании) основной минус — это игнорирование интересов меньшинства. К тому же избирателями можно манипулировать, меняя результаты голосования под интересы одного человека или небольшой группы.
В любом случае нужно идти на какие-то жертвы или уступки, это неизбежно. Но, как мне кажется, наиболее рациональной стратегией будет выбирать способ принятия решений в зависимости от ситуации, а не регламентированно. Т.е. всё зависит от количества человек, принимающих решение. Например, до 20-30 человек — консенсус, до ~300 — компромисс, далее — голосование. Похожее предложение было у Мэри Паркер Фоллетт — американского социолога и консультантки по вопросам управления. В своей книге «Отдача приказов» она писала, что приказы должны отдаваться в контексте происходящей ситуации.
Заключение
Не стоит воспринимать мои предложения как догму или что-то стопроцентно вероятное. Это некоторые варианты, которые в теории могли бы существовать. Но возможно в некоторых моментах мои суждения могли быть субъективны, хотя я старался избегать этого. В любом случае это не отменяет важности темы, поднимаемой в статье. Чтобы наиболее объективно теоретизировать космополитическую панархию, необходимо устраивать мозговые штурмы и дискуссии. Именно так родится истина, что-то практически применимое.
Источники
1. Gian Piero de Bellis, Comunità volontarie e realtà territoriali (come risolvere problemi territoriali tra comunità aterritoriali) (2011)
2. Gian Piero de Bellis, PANARCHY - POLYARCHY - PERSONARCHY (2005)
3. Mary Parker Follett, The Law of the Situation (extract from The Giving of Orders) (1925)
4. McCunnLaw: What Does Private Judge Mean? (2023)
5. Wikipedia: Arbitration
6. Wikipedia: Georgism
7. Wikipedia: Homestead principle
8. Wikipedia: Mary Parker Follett
9. Wikipedia: Non-aggression principle
10. William Schnack, Geo-Mutualist Panarchism: A Synopsis (2014)
11. Алексей Шустов, ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВА 2.030 (2023)
12. Анна Юрасова, Конфедерация: исторический опыт и современность (2017)
Автор: Landquart,
2025 г.