Панархия и предпринимательские города
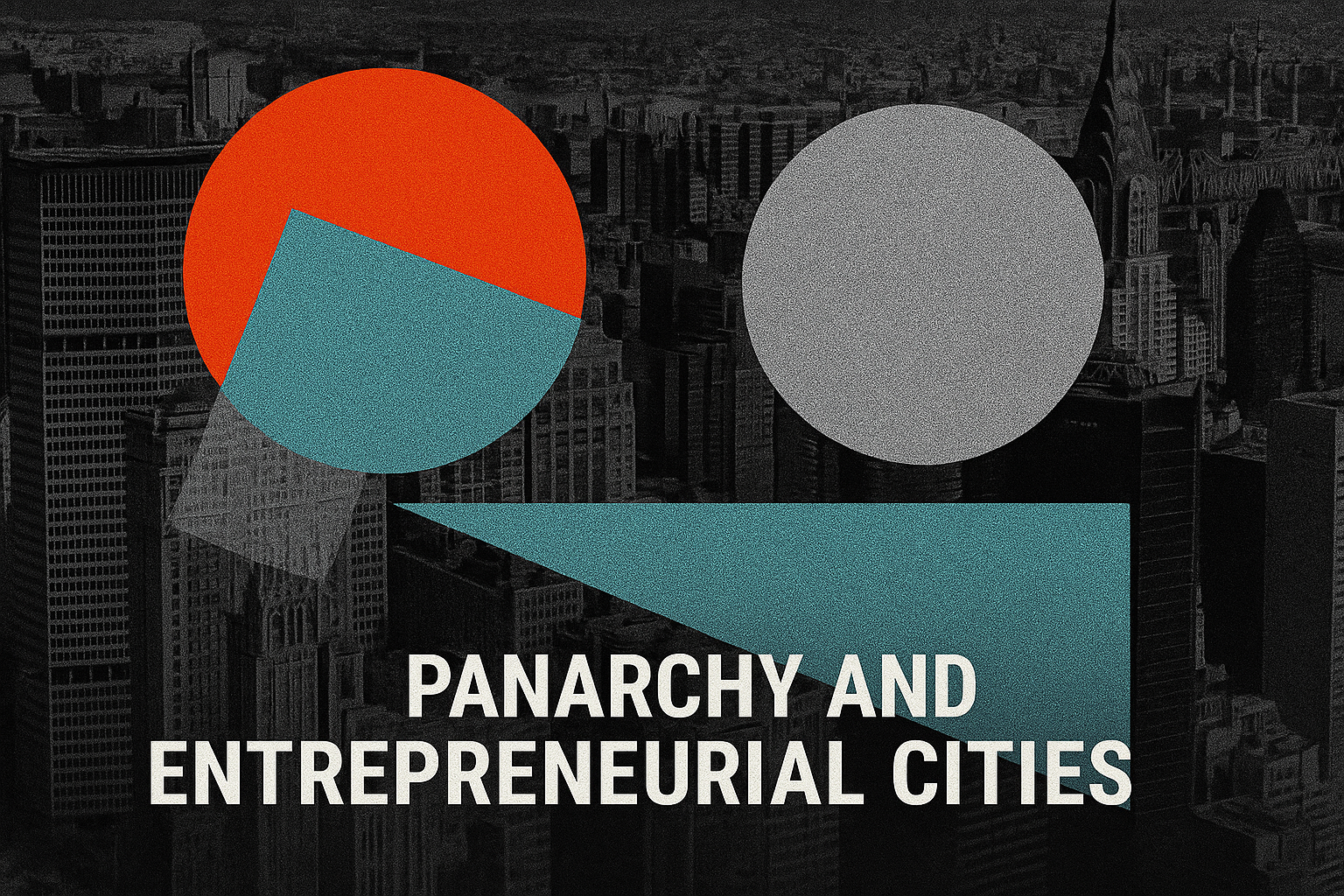
Сходства между панархией и частными городами
В 1860 году бельгийский экономист и ботаник Поль Эмиль де Пюид опубликовал в журнале Revue Trimestrielle эссе «Панархия» (изначально на французском языке¹), в котором изложил политическую систему, при которой каждый человек имел бы право выбирать, под какой формой правления он хотел бы жить. Иными словами, Пюидт применил концепцию свободы выбора — laissez-faire, laissez-passer — к системе государственного (или негосударственного) устройства.
«Моя панацея, если позволите так выразиться, — это всего лишь свободная конкуренция в сфере управления. Каждый имеет право заботиться о своём благополучии так, как он считает нужным, и получать безопасность на собственных условиях. В то же время это означает прогресс через соперничество между правительствами, вынужденными конкурировать за последователей. Истинная мировая свобода — та, которая никому не навязывается, а для каждого является именно тем, что он сам от неё хочет; она ничего не подавляет и не обманывает, и всегда предполагает право на апелляцию. […] В двух словах: свобода выбора, конкуренция. Laissez faire, laissez passer! Этот чудесный девиз, написанный на знамени экономической науки, однажды станет принципом и политического мира. Само выражение «политическая экономия» уже предвосхищает это, и примечательно, что некоторые пытались даже изменить это название, скажем, на «социальная экономия». Однако здравый смысл людей не позволил сделать такую уступку. Экономика есть и всегда будет политической наукой par excellence. Разве не она породила современный принцип невмешательства и его лозунг laissez faire, laissez passer?»Майкл С. Розеф в статье Why I Am a Panarchist² выражает ту же идею Пюида другими словами:
«Лично я не хочу жить под властью и под гнётом, поэтому я анархист. Но я также признаю, что кто-то из вас может желать этого, и именно поэтому я панархист. Я не хочу упразднять ваше правительство, которое вы сами для себя выбрали, но я хочу иметь собственный способ управления для себя. И это ещё одна причина, почему я панархист».
Или, вкратце, Пюид писал:
«Свобода должна распространяться и на право не быть свободным — и включать его в себя».
Так как люди отличаются друг от друга идеологиями и политическими предпочтениями, почему бы не применить те же правила добровольных объединений и к политическим образованиям? Каждый получил бы свободу жить в том социальном устройстве, какое он хочет, не затрагивая своим выбором других.
«Самое замечательное в этом нововведении то, что оно навсегда избавляет от революций, мятежей и уличных боёв — вплоть до последних напряжений в тканях политической жизни. Недоволен своим правительством? Перейди к другому! Эти четыре слова, всегда ассоциировавшиеся с ужасом и кровопролитием, слова, которые все суды — высшие и низшие, военные и особые, без исключения и единогласно — признают виновными в подстрекательстве к бунту, становятся невинными, словно произнесённые семинаристами […]. Так как это касается лишь тебя одного, я не могу с этим спорить. Твоя перемена никого больше не затрагивает — вот её достоинство; она не предполагает ни победившего большинства, ни побеждённого меньшинства […].»Так же как и предпринимательские города, панархия не возражает против существования разных моделей общества — при условии, что участие в них является добровольным и индивидуальным.
«В сущности, если отбросить все предубеждения, какова функция любого правительства? Как я уже отмечал выше, она состоит в том, чтобы обеспечивать своих граждан безопасностью — в самом широком смысле слова и на наилучших условиях. Я отлично понимаю, что на этом пункте наши представления ещё довольно смутны. Для одних даже армия не является достаточной защитой от внешних врагов; для других и полиция, и силы безопасности, и королевский прокурор, и все почтенные судьи — тоже недостаточны, чтобы гарантировать внутренний порядок и защиту прав и собственности. Одни хотят правительство с руками, полными оплачиваемых должностей, пышных титулов, ярких наград, с таможнями на границах, защищающими промышленность от потребителей, с легионами госслужащих для содержания изящных искусств, театров и актрис. Я знаю, что это лишь пустые лозунги, распространяемые правительствами, играющими в провидение, подобно тем, о которых мы говорили раньше. Пока экспериментальная свобода окончательно их не рассудит, я не вижу вреда в том, чтобы позволить им продолжать к удовольствию их сторонников. Я прошу лишь об одном: о свободе выбора.
Тем не менее нужно понимать, что существуют кое-где правительства настолько либеральные, насколько это вообще допускает человеческая слабость, и всё же даже в «лучших из возможных республик» дела обстоят далеко не идеально. Одни говорят: „Всё именно потому, что свободы слишком много“; другие: „Потому, что её всё ещё недостаточно“.»
Один человек нуждается в возбуждении и борьбе — покой для него был бы смертельным. Другой, мечтатель и философ, наблюдает за движениями общества издалека — его мысли рождаются лишь в глубочайшей тишине. Один — бедный, задумчивый, неизвестный художник — нуждается в поддержке и поощрении, чтобы создать своё бессмертное произведение, в лаборатории для экспериментов, в глыбе мрамора, чтобы высечь ангелов. Другой — энергичный и импульсивный гений — не терпит оков и ломает руку, которая пытается его направлять. Для одного приемлема республика со своей преданностью и самоотречением; для другого — абсолютная монархия со всем её блеском и пышностью. Один — оратор — жаждет парламента; другой, не способный связать и десяти слов, не желает иметь дела с подобными пустословами. Есть сильные духом и слабые умом, есть с неутолимыми амбициями и есть скромные — довольные своей малой долей.
В конце концов, столько же потребностей, сколько и различных личностей. Как же можно примирить всё это единою формой правления?И в литературе о предпринимательских городах, и в панархии признаётся польза, возникающая из конкуренции в сфере управления.
«[…] С того момента, как формы правления становятся предметом эксперимента и свободной конкуренции, они неизбежно будут развиваться и совершенствоваться; таков закон природы.Больше никакого лицемерия, никаких мнимых глубокомысленных рассуждений, за которыми скрывается лишь пустота. Больше никаких интриг, выдаваемых за дипломатическую тонкость. Больше трусливых шагов или неприличий, замаскированных под государственную политику. Больше придворных или военных заговоров, ложно описываемых как благородные или продиктованные национальными интересами. Короче, больше никаких обманов относительно характера и качества действий правительства. Всё открыто для наблюдения. Подданные делают и сопоставляют свои выводы, а правители, наконец, видят эту экономическую и политическую истину: в этом мире есть лишь одно условие прочного и долговременного успеха — управлять лучше и эффективнее, чем другие.[…] благодаря закону конкуренции каждое правительство будет неизбежно стремиться стать максимально простым и экономичным. Те самые правительственные ведомства, которые стоят нам, Бог свидетель, целого состояния, сведутся к необходимому минимуму; а излишние чиновники будут вынуждены оставить свои должности и заняться производительным трудом. […]. Слишком большое количество правительств действительно могло бы стать злом и источником чрезмерных расходов, если не путаницы. Однако стоит только заметить эту проблему — и решение уже под рукой. Здравый смысл народа не потерпит излишеств, и вскоре только жизнеспособные правительства смогут продолжать существование. Остальные вымрут с голоду. Видите, свобода — это ответ на всё.[…] при господстве конкуренции какое правительство позволит себе отстать от других в гонке за прогрессом? Какое улучшение, доступное счастливому соседу, кто-нибудь откажется внедрить у себя дома? Такая постоянная конкуренция творила бы чудеса.»И панархия, и предпринимательские города провозглашают приоритет индивидуального самоопределения — и это их единственный флаг. То есть возможность реагировать на упадок организаций, в данном случае государственных, не только с помощью «голоса», как это принято в нынешних системах (голосование, протест, петиции и т. п.), но и с помощью «выхода»³. По словам Пюида, принцип выхода формулируется так: «Перейди к другому!». Стоит подчеркнуть, что под «выходом» здесь имеется в виду возможность выйти из данной институциональной системы, вовсе не обязательно покидая её территориальную юрисдикцию. Сюда может входить, например, создание особой зоны внутри юрисдикции государства, однако эта зона уже не будет обязана действовать в рамках общего институционального режима, который применяется на остальной территории.
«[…] Чтобы обрести такую свободу, вовсе не нужно отказываться от национальных традиций или семейных уз, не нужно учиться думать на новом языке, и совсем не обязательно переправляться через реки или моря, унося с собой кости предков.»Панархия не требует разрушения существующих систем, но допускает их одновременное существование и постепенное развитие через конкуренцию нового со старым. Таким образом, и панархия, и предпринимательские города сочетают в себе осторожность и новаторство, примиряя постоянство и перемены в процессе перехода от старых институциональных форм к новым. Иными словами, новые формы общественной организации могут сосуществовать с нынешним институциональным зданием, так как они не являются взаимоисключающими, что ведёт к появлению более отзывчивых институтов управления⁴, которые приносят не разрывы (революции), а постепенные изменения через конкуренцию.
«Неизменны лишь законы природы; всё же законодательство должно основываться на них, ибо только они обладают прочностью, способной поддерживать здание общества; но само здание — дело рук человеческих.Каждое поколение — словно новый жилец, который, прежде чем въехать, переставляет вещи, обновляет фасад, добавляет или разбирает пристройку по своим нуждам. Время от времени какое-нибудь поколение, более энергичное или более близорукое, чем предыдущее, рушит всё здание и ночует под открытым небом, пока оно не будет отстроено заново. Когда же после тысяч лишений и огромных усилий им удаётся возвести новое здание по новому плану, они с горечью обнаруживают, что оно не намного удобнее старого. Верно, что те, кто составлял планы, получили хорошие квартиры — тёплые зимой и прохладные летом, в удачных местах. Но остальные, у кого не было выбора, оказываются в мансардах, подвалах или на чердаках.Так всегда находятся недовольные и смутьяны: одни тоскуют по старому дому, другие, более предприимчивые, уже мечтают о новом сносе. На немногих довольных приходится бесчисленная масса недовольных.Нужно, однако, помнить, что довольные всё же есть. Новое здание, конечно, далеко от совершенства, но у него есть преимущества; зачем же рушить его завтра, позже или вообще когда-либо, пока оно даёт приют достаточному числу жильцов, чтобы поддерживать его существование?Я сам ненавижу разрушителей не меньше, чем тиранов. Если вам кажется, что ваша квартира неудобна, мала или нездорова, — тогда просто смените её, вот и всё, чего я прошу. Выберите другое место, съезжайте тихо; но ради бога, не взрывайте весь дом на прощание. То, что не подошло вам, может восхищать вашего соседа. Понимаете мою метафору?»
Предпринимательские города, так же как и панархия Пюида, ведут к институциональной эволюции общества, но делают это осторожно, сохраняя здание институтов, которым мы располагаем сегодня, какими бы несовершенными они ни были. Кроме того, институциональные новшества испытываются группами пионеров, которые добровольно их выбирают. Предпринимательские города и панархия разделяют дух осторожности при попытках внедрять новое и до конца не известное, а также гибкость, позволяющую делать это без необходимости «сносить здание». Более того, всегда важно учитывать контекст перемен: ведь новые не только институты, но и каждый исторический момент уникален (и, следовательно, нов!), что требует от нас максимальной рассудительности и мудрости.
Институты общества постоянно эволюционируют, и новые институциональные формы возникают каждое мгновение. Почему же мы должны рисковать, распространяя социальные нововведения сразу на всё население, как это традиционно делается в политике? Предпринимательские города и другие «стартап-зоны», напротив, позволяют социальным системам развиваться «по запросу», то есть новые институциональные формы напрямую затрагивают только их сторонников и процветают лишь постольку, поскольку отвечают их интересам.
В другой части текста Пюид делает наблюдение, звучащее весьма современно. В тот раз он говорил о роли прессы, которая в его время имела то значение, какое сегодня всё больше смещается в сторону социальных сетей:
«Моя идея — лишь семя на ветру. Упадёт ли оно на плодородную почву или на вымощенную дорогу? На это я повлиять не могу. Я ничего не предлагаю — всё лишь дело времени. Кто, столетие назад, верил в свободу совести, и кто ныне осмелится её оспаривать? Разве так давно люди насмехались над самой мыслью о том, что пресса может быть властью внутри государства? А теперь и государственные деятели склоняются перед ней. Разве вы предвидели эту новую силу общественного мнения, рождение которой мы все наблюдали и которая, хотя ещё в младенчестве, уже выносит приговор империям? Она имеет высочайшее значение даже для решений деспотов. Разве вы не рассмеялись бы в лицо тому, кто дерзнул бы предсказать её восхождение?»
Важное различие
Различие между панархией и предпринимательскими городами заключается в том, что концепция Пюида является «экстерриториальной», то есть она не ограничивает выбор правительства географическими границами.
«Речь не идёт об эмиграции. Человек не носит родину на подошвах своих ботинок. К тому же столь колоссальное переселение невозможно и всегда останется невозможным. Всего богатства мира не хватило бы, чтобы покрыть такие расходы. У меня нет намерения переселять население в соответствии с его убеждениями […].К примеру, вы республиканец. […] Монархия вам не по душе — воздух для ваших лёгких слишком душен, а телу не хватает свободы движений, которых требует ваш организм. В нынешнем расположении духа вы склонны разрушить это здание — вы и ваши друзья — и построить на его месте своё собственное. Но для этого вы столкнётесь со всеми монархистами, которые держатся за свои убеждения, и вообще со всеми, кто их не разделяет. Сделайте лучше так: соберитесь, объявите свою программу, составьте бюджет, откройте списки членов, подсчитайте силы; и если вас достаточно много, чтобы покрыть расходы, создайте свою республику.Мой метод отличается от несправедливых и тиранических процедур прошлого тем, что я не намерен никому навязывать насилие. Кто хочет осуществить политический раскол — должен иметь такую возможность, но при одном условии: он делает это внутри своей группы, не затрагивая ни прав, ни веры других. Для этого совершенно не требуется делить территорию государства на столько частей, сколько существует известных и признанных форм правления. Как и прежде, я оставляю каждого и всё на своём месте».
Современное применение идей бельгийского автора реализуется инициативой Bitnation. Вкратце, это виртуальная платформа, позволяющая создавать или присоединяться к децентрализованным, безграничным и добровольным юрисдикциям. Такие виртуальные юрисдикции не обязаны соответствовать политическим границам или валютам и свободны для вступления — то есть человек становится их частью лишь по собственному желанию. Можно быть «гражданином» сразу нескольких «наций», а можно и вовсе не принадлежать ни к одной, сохраняя право на самоопределение и выбирая, под какими законами жить. Таким образом, становится возможным формировать глобальный свободный рынок добровольных услуг управления без традиционных территориальных ограничений. Каждый может жить в той системе, какую выберет, не навязывая её другим. Иными словами, это панархия в технологически обновлённой версии, где современные цифровые инструменты заменяют агентства политической принадлежности, предложенные Пюидом.
«Идёте вы в Бюро политической принадлежности, с почтением в руках шляпу, и вежливо просите перенести ваше имя в любой список по вашему выбору. Комиссар надевает очки, открывает реестр, вносит вашу запись и выдаёт квитанцию. Вы уходите — и революция совершена, не пролит ни единый, кроме капли чернил.»
С новыми технологиями добровольное экстерриториальное управление получило масштаб, о котором Пюид даже не мог мечтать. Автор видел применение своих идей на уровне ассоциаций, близких к муниципальному, тогда как охват Bitnation является глобальным.
После изложения концепции экстерриториальности, а также иллюстративного примера Bitnation, перейдём к детальному рассмотрению существующего различия между панархией и территориальной концепцией управления предпринимательских городов.
Можно предположить, что механизм панархии будет изящно работать для нетерриториальных благ, то есть таких, польза от которых не зависит от их местоположения. Польза от шоколадного батончика, например, одинакова — будь он съеден в центре мегаполиса или на его окраине, и неважно, поставляется ли он одним производителем или множеством конкурентов в той же местности. Аналогично действует и медицинская страховка. Именно поэтому мы видим, как они ежедневно конкурируют на одной территории, вместо того чтобы существовал лишь один поставщик медицинских услуг для данного региона.
Однако существуют так называемые «территориальные блага» или «локальные блага», то есть такие, которые предоставляются людям лишь опосредованно, а их польза зависит от нахождения в определённых местах. Это подробно объясняется в книге Спенсера Х. МакКоллума The Art of Community⁵.
Зонирование — один из примеров территориального блага. Представим, что кто-то хочет жить в районе, где поблизости есть небольшие магазины шаговой доступности, но нет определённых типов промышленности. Допустим, этот человек хочет поселиться в квартале индивидуальных домов, где преобладает низкая плотность застройки и нет многоэтажек. Подобная ситуация может сложиться и без всякого зонирования, но нет гарантии, что она сохранится. Минимальное, не чрезмерное зонирование может помочь снизить негативные внешние эффекты и сохранить экономический потенциал жилых, коммерческих, промышленных и рекреационных территорий и других объектов. То есть оно может создавать ценность и быть предметом спроса.
А теперь представим город, где есть десять добровольных политических образований, члены которых разбросаны по всему его пространству, и им предстоит договориться, какое зонирование будет реализовано. Так как невозможно одновременно применить все планы, какие-то придётся выбрать, и это затронет третьих лиц, которые не соглашались с такими параметрами землепользования. А это уже противоречит панархистскому принципу невмешательства в чужие социальные системы.
Улицы и шоссе — ещё один пример территориальных благ. Польза, которую можно извлечь из этих сооружений, напрямую зависит от их расположения. Для каждого жителя одного и того же города существуют улицы, которыми он пользуется ежедневно, и улицы, по которым он никогда не пройдёт за всю жизнь. Иными словами, ценность, которую человек получает от одного квадратного метра асфальта, сильно различается в зависимости от места. Это означает, что для такого типа благ логичнее объединяться с соседями ради их строительства, чем с людьми из другого конца города. Таким образом ярко проявляется территориальный аспект подобного управления.
Наконец, Пюид применяет концепцию экстерриториальности и к правовым системам:
«[…] Вы подчинялись бы своим собственным руководителям, своим законам и своим правилам. Платили бы не больше и не меньше, но в моральном смысле ситуация была бы совершенно иной. В конечном счёте каждый жил бы в собственной политической общине, как если бы рядом вовсе не существовало других — даже десяти иных — политических общин, каждая из которых тоже имела бы своих участников.»
Автор предлагает следующее решение для межличностных конфликтов, возникающих при разных правовых системах:
«Если возникнет спор между подданными разных правительств или между одним правительством и подданным другого, то достаточно будет руководствоваться принципами, которые до сих пор применялись между соседними мирными государствами; а если обнаружится пробел, он без труда восполнится правами человека и всеми другими возможными правами. Всё остальное станет делом обычных судов правосудия.»
Однако существование множества агентств, предлагающих разные законы на одной и той же территории, могло бы привести к значительному росту транзакционных издержек — ведь в каждом случае пришлось бы решать, какое право применять. Как отметил Титус Гебель в своей недавней книге Free Private Cities: Making Governments Compete for You⁶: «Существуют правила, установленные на случай коллизии законов, то, что мы называем международным частным правом. Однако на практике при их применении непредсказуемо и часто неожиданно, какое именно право в итоге будет использовано».
Если подобные сложности и издержки действительно возникают, то развитие рыночной среды будет, безусловно, затруднено.
Следует отметить, что между концепцией, согласно которой миллионы людей должны подчиняться одному и тому же законодательству (как это происходит в национальных правовых системах), и противоположной концепцией, где «каждый сам себе страна», может существовать середина. Она сохраняет конкурентное взаимодействие правовых систем, но при этом не делает чрезмерно сложной всю систему общежития. В некотором смысле Пюид признаёт этот момент через воображаемого собеседника:
«Это — новая золотая жила для юридических споров, которая приведёт всех адвокатов на вашу сторону.»
Должен подчеркнуть, что ничего в этом разделе не ставит целью доказать невозможность панархии в том виде, как её воображал Пюид, — здесь лишь указываются возможные трудности и издержки, которые могут возникнуть при такой конфигурации. Подобно самому Пюиду, я говорю: пусть это попробуют его сторонники! Посмотрим, сработает ли оно.
Заключение
«Итак, свободная конкуренция в сфере управления — как и во всех других случаях.Представьте себе, после первого удивления, картину страны, открытой для правительственной конкуренции — то есть одновременно имеющей столько конкурирующих между собой правительств, сколько когда-либо было придумано и сколько ещё будет изобретено.В нынешних условиях правительство существует лишь исключая все остальные, а партия может править только после того, как сокрушит своих соперников; большинство всегда преследуется меньшинством, которое нетерпеливо жаждет власти. При таких условиях неизбежно, что партии ненавидят друг друга и живут, если не в состоянии войны, то хотя бы в состоянии вооружённого мира. Нет ничего удивительного, что меньшинства плетут интриги и поднимают волнения, а правительства подавляют силой любые стремления к иной политической форме, которая сама по себе также была бы исключительной. В итоге общество состоит либо из честолюбцев, жаждущих мести, либо из честолюбцев, пресыщенных властью и самодовольно сидящих на краю пропасти. Ошибочные принципы никогда не приводят к справедливым последствиям, а принуждение никогда не ведёт к истине.А теперь вообразите, что всякое принуждение прекращается; что каждый взрослый гражданин свободен и остаётся свободным выбирать из числа возможных предлагаемых правительств то, которое соответствует его воле и удовлетворяет его личные потребности; свободен не только на следующий день после какой-нибудь кровавой революции, но всегда и везде; свободен выбирать, но не навязывать свой выбор другим. В этот момент прекращается всякий беспорядок, становятся невозможными все бесплодные борьбы.»
Иными словами, то, что отличает панархию от большинства политических теорий, — это отсутствие навязывания социальных моделей. Здесь нет модели общества, которую необходимо внедрить, есть лишь принцип — самоопределение, служащее основой для создания любых социальных моделей.
«„Ага, понятно!“ — может сказать читатель. — „Вы один из тех утопистов, которые хотят составить из множества кусочков систему, в которую общество будет заключено — силой или по согласию. Всё нынешнее никуда не годится, и лишь ваше средство спасёт человечество. Ваше волшебное решение!“Вы ошибаетесь! У меня нет никакого волшебного решения, кроме решений каждого. Я не отличаюсь от всех остальных ни в чём, кроме одного: я открыт для любых убеждений. Другими словами, я допускаю все формы правления — по крайней мере все те, у которых есть хотя бы некоторые сторонники.»
Панархия Пюида и предпринимательские города представляют собой последовательные проиндивидуальные подходы, доводящие концепцию самоопределения до предела, поскольку предполагают, что каждый должен жить в той системе, которую сам выбирает — даже если это несвободная система.
Возможно, удастся совместить обновление или «спасение» социального устройства с этической нормальностью, предлагаемой интеллектуальной традицией, отстаивающей уважение к естественным правам, — и с прагматизмом/реализмом консерватизма, который выступает против демонтажа институтов, доведших нас до нынешнего состояния? Может быть, мы можем идти путём достижимого, делая в каждый исторический момент всё, что в наших силах, — с осторожностью, стремясь улучшить социальные институты усилиями небольших групп пионеров?
Оригинал статьи: Panarchy and Entrepreneurial Cities
¹ Пюид, П. Э. Panarchie, 1860. Термин, введённый Пюидом, означает что-то вроде «все правительства». Происходит от греч. pás, pasá, pán — «всё, полностью»; от лат. archia, из греч. arkhía — «власть, правление».
² Michael S. Rozeff, Why I Am a Panarchist, 2009.
³ Альберт Хиршман. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, 1970.
⁴ Способность быстро и адекватно реагировать на определённую ситуацию. Разрешать её так, как ожидается. В области менеджмента это может обозначать готовность или оперативность в обслуживании клиентов.
⁵ МакКоллум, С. Х. (1970). The Art of Community. Менло-Парк: Institute for Humane Studies.
⁶ Гебель, Титус (2018). Free Private Cities: Making Governments Compete for You.
Об авторе
Педро Диас — экономист, исследователь Австрийской школы экономики и энтузиаст предпринимательских городов. В 2018 году создал сайт Cidades Empresariais в качестве репозитория материалов, посвящённых частному управлению и смежным темам.
Перевод с португальского: Марсело Соруко
Редактура: Франциско Литвай